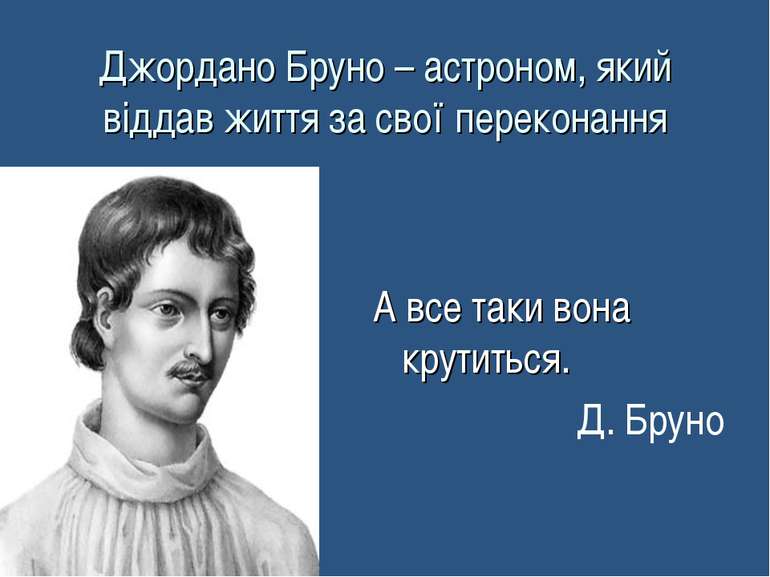 Единственному покровителю муз Единственному покровителю муз
знаменитейшему
Микелю ди Кастельново,
синьору ди Мовисьеро, Конкресальто и Жонвиля,
кавалеру ордена христианнейшего короля
и советнику его Тайного совета,
капитану 50 солдат,
правителю и капитану св. Дезидерия
и послу у светлейшей королевы Англии
И
МОЕМУ НЕНАВИСТНИКУ
Если больно ты зубом укушен собачьим,
О себе пожалей ты, пес грубый и жалкий!
Ты напрасно грозил мне кинжалом и палкой,
Если силой моей так теперь озадачен.
В грозной битве с неправдой ищу я удачи
И тебя поражаю, чтоб бросить на свалку...
Если жизнь оборвет мне небесная прялка,
Твой навеки пребудет позор обозначен.
Не ходи обнаженным за медом пчелиным;
Не кусай, не узнав, где гранит, где горбушка;
Не ходи босиком, раз колючки ты сеешь;
Если муха ты, бойся тогда паутины;
Если — мышь, то не прыгай вослед за лягушкой;
Эй петух, от лисы убегать ты умеешь?
Верь святому завету,
Что твердит всему свету:
Лишь на поле смиренья
Не взрастут заблужденья.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО,
написанное знаменитейшему и превосходнейшему синьору ди Мовисьеро, кавалеру ордена короля его Тайного совета,
капитану 50 солдат, главному правителю св. Дезидерия и французскому послу в Англии
Вот вам, синьор, пир в моем присутствии, не нектарный пир Громовержца — ради величия; не пир потомков первозданного Адама — из-за отчаяния; не пир Артаксеркса — из-за тайны; не Луккула — из-за богатства; не Ликаона — из-за святотатства; не Фиеста3 — ради трагедии; не Тантала — из-за страдания; не Платона —ради философии; не Диогена — из-за нищеты; не пиявки — из-за пустяка; не протопопа из Повильяно4 — ради шутки; не Бонифация 5 из «Подсвечника» — ради комедии. Нет, это пир столь же великий, сколь и малый; столь же поучительный, сколь ученический; так же кощунственный, как и религиозный; такой же веселый, как и злой; настолько же горестный, насколько радостный; по-флорентийски тощий, по-болонски жирный; столь же кинический, сколь сарданапаловский; такой же пустяковый, как и серьезный; настолько строгий, насколько шутовской; так же трагичный, как и комичный. Так что я с уверенностью полагаю, что у вас будет здесь немало случаев сделаться героическим — растерянным; учителем —учеником; верующим — неверующим; радостным — печальным; меланхолическим — веселым; легким — тяжелым; жадным — щедрым; бессильным — всемогущим; софистом с Аристотелем, философом с Пифагором; смеющимся с Демокритом, плачущим с Гераклитом. Я хочу сказать: после того как вы обоняли с перипатетиками, вкушали с пифагорейцами, пили со стоиками, вы сможете еще воспринимать и с тем, кто ощерив зубы, имеет приятную улыбку до ушей. Поэтому, разгрызая кость и извлекая оттуда мозг, вы найдете здесь кое-что, способное разоружить святого Коломбина, одного из патриархов иезуатов 6, умилить любой базар, вывихнуть челюсти и прервать молчание на каком угодно кладбище.
Вы спрашиваете меня: что это за симпосион, какой это пир? Это ужин. Какой ужин? На пепле. Что значит ужин на пепле? Разве может быть перед вами поставлено такое кушанье? Разве можно сказать: я ел пепел, как хлеб? Нет, это ужин после солнечного заката, в первый день великого поста, называемый нашими попами днем пепла, а иногда — днем воспоминания. В чем же состоит этот пир, этот ужин? Конечно, не в том, чтобы выразить уважение к духу и делам высокородного и благовоспитанного господина Фулка Гривелла7, в почтенной квартире которого мы собирались; не по поводу почтенных нравов культурнейших господ, которые присутствовали там в качестве зрителей и слушателей, но из-за желания увидать, что может сделать природа, создавая две фантастические куклы, два сновидения, две тени, две перемежающиеся четырехдневные лихорадки. На этом основании, после того, как смысл истории будет просеян, а затем испробован и разжеван, будут высказаны топографические соображения, а также географические, кроме того рассудочные, а также моральные, да еще умозрения: метафизические, математические и естествоведческие.
Вы будете удивлены, как при такой краткости совершены столь великие дела. Но не смущайтесь, если видите здесь иногда некоторые менее важные положения; порою казалось, что угрожает опасность очутиться перед строгой цензурой Катона; ведь эти Катоны слишком слепы и глупы, чтобы открыть то, что скрыто за этими Силенами 8. Если здесь соединено столько различных положений, то пусть не кажется, что в одном месте наука, в другом — диалог, здесь комедия, там трагедия, здесь поэзия, там риторика; здесь хвалят, там порицают, там доказывают или обучают; здесь нечто из физики, а там из математики, здесь из морали, там из логики; и в итоге —нет ни одной отрасли науки, не представленной в отрывках. Подумайте, синьор, ведь это исторический диалог, где, в то время как докладывается о поводах, о движениях, о прохождениях, о встречах, о действиях, о страстях, о речах, о рассуждениях, об ответах, о положениях и неудачных тезисах, — все излагается для строгого суждения этих четырех собеседников, и нет ничего, что не могло бы появится здесь кстати, с тем или иным основанием. Подумайте и о том, что здесь нет праздного слова, так как во всех частях приходится выяснять и очищать немаловажные вещи и, может быть, больше всего там, где это казалось менее нужным. Что касается находящегося на поверхности, то те люди, которые дали повод создать диалог и, может быть, сатиру и комедию, эти люди имеют возможность стать более осмотрительными и не мерить людей той палочкой, которой измеряют бархат, а души не взвешивать на металлической чашке весов. Те, которые будут зрителями или читателями и увидят, каким образом задеваются другие, научатся быть осторожными и обучатся за счет других. У тех, кто здесь уязвлен и упорствует, откроются, может быть, глаза, и, увидав свою нищету, наготу и непристойность, они, если не из любви, то, по крайней мере, от стыда, смогут исправиться или прикрыться, если признают свою вину. Если вам покажется, что наш Теофил или Фрулла слишком глубоко и строго затрагивают основы некоторых положений, то примите, синьор, во внимание, что у многих животных не слишком нежная кожа и что если бы толчки были во сто раз сильнее, то и тогда они ничего не заметили бы или восприняли бы это как детское прикосновение. Я не хочу, чтобы вы считали меня заслуживающим упрека за то, что по поводу такой глупости и на таком недостойном фоне, который представляют эти доктора, я решился защищать столь важные и достойные положения; ведь я уверен, что вы понимаете различие между тем, когда берутся за дело по существу и когда — по случайному поводу. Верно, что основания должны быть пропорциональны величию, условиям и благородству здания; но ведь могут быть всякого рода результаты вследствие разных поводов, так что мелкие и грязные вещи бывают семенами больших и прекрасных дел; глупости и безумства обыкновенно вызывают большие мысли, суждения и открытия. Не говорю уже о том, что ясно; ошибки и преступления много раз давали повод для важнейших норм справедливости и добра.
Если вам покажется, что краски портрета не вполне соответствуют жизни и рисунок представится не вполне отвечающим действительности, то знайте, что недостаток происходит оттого, что живописец не смог справится с портретом из-за отсутствия пространств и расстояний, какие приняты у мастеров искусств; ведь кроме того, что стол или фон были слишком близки к лицу и глазам, нельзя было отступить назад на самый маленький шажок или отодвинуться в тот или другой угол из боязни сделать прыжок, который совершил сын знаменитого защитника Трои.
Поэтому возьмите этот портрет таким, какой он есть, где даны эти двое, эти сто, эта тысяча, эти все; ведь посылается это не для того, чтобы сообщить вам известное, и не для того, чтобы добавить воды к быстрому потоку вашего суждения и ума, но, как мне известно, хотя обычно мы лучше познаем вещи в натуре, мы все же не имеем обыкновения пренебрегать портретом и представленным на нем. Кроме того, несомненно, что ваше великодушие обратит внимание скорее на чувство благодарности, с которым это предлагается, чем на дар подносящей руки.
Это адресовано вам как человеку более близкому, показавшему себя более благосклонным и более расположенным к нашему Ноланцу, и поэтому мы предполагаем, что вы наиболее достойны нашего почтения в этом климате, где торговцы без совести и веры легко делаются Крезами, а добродетельные люди, не имеющие золота, — Диогенами. Вам, который с такой щедростью принял Ноланца под свой кров, в самый высокий этаж вашего дома, куда эта страна, вместо того чтобы послать за границу тысячи свирепых гигантов и создавать там сколько же Александров Великих, послала, как вы видели более пятисот гигантов, чтобы они составили кортеж вашему Диогену9. А между тем он по милости звезд имеет только вас, приходящего к нему впустить луч солнца, если только (чтобы не сделать его беднее названного оборванца-циника) оно бросит несколько прямых или отраженных лучей через известное вам окошко.
Посвящается вам, представляющему здесь в Британии мощь столь щедрого, столь великого и столь сильного короля, который из самой великодушной груди в Европе голосом свой славы ошеломляет последние основания земли; когда он кричит в гневе, как лев в глубокой пещере, то наводит ужас и смертельный страх на мощных хищников лесов, а когда отдыхает и спокоен, то шлет такой жар щедрой и учтивой любви, что воспламеняет соседний тропик, согревает ледяную Медведицу и растворяет суровость арктической пустыни, которая вращается под вечной охраной свирепой Малой Медведицы.
Будьте здоровы!
ПИР НА ПЕПЛЕ
ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ
Собеседники:
Смит, философ Теофил, педант Пруденций, Фрулла
Смит. Хорошо говорят по-латыни?
Теофил. Да.
Смит. Джентельмены?
Теофил. Да.
Смит. С хорошей репутацией.
Теофил. Да.
Смит. Ученые?
Теофил. Довольно компетентные.
Смит. Благовоспитанные, вежливые, культурные?
Теофил. В известной степени.
Смит. Доктора.
Теофил. Да, сударь. Да, господи, да, матерь Божия. Да, да. Я думаю, что они из Оксфордского университета.
Смит. Квалифицированные?
Теофил. Ну как же нет? Избранные люди, в длинных мантиях, облаченные в бархат. У одного — две блестящие золотые цепи 12 вокруг шеи. У другого — боже ты мой! — драгоценная рука с дюжиной колец на двух пальцах, которые ослепляют глаза и душу, если любуешься ими. Похож на богатейшего ювелира.
Смит. Выказывают познания и в греческом языке?
Теофил. И к тому же еще и в пиве.
Пруденций. Отбросьте слова «и к тому же еще», так как это затасканное и устарелое выражение.
Фрулла. Помолчите, маэстро, пока никто с вами не говорит.
Смит. А какой у них вид?
Теофил. Один похож на стража великанши и Оркуса, другой на привратника богини тщеславия.
Смит. Так что их двое?
Теофил. Да, потому что это число таинственное.
Пруденций. Как и надлежит присутствовать именно двум свидетелям.
Фрулла. Что вы понимаете под этими свидетелями?
Пруденций. Свидетели — это экзаминаторы ноланской полноценности. Но, клянусь Геркуулесом! почему вы, Теофил, сказали, что число два таинственное.
Теофил. Потому что два есть первая координация, как говорит Пифагор, конечное и бесконечное, кривое и прямое, правое и левое и так далее. Два вида чисел: четное и нечетное, из которых одно —мужчина, другое — женщина. Два Эроса: высший — божественный, низший — вульгарный. Два дела в жизни: познание и действие. Две цели в них: истина и добро. Два вида движения: прямолинейное, в котором тела стремятся к сохранению, и кругообразное, в котором они сохраняются. Два существенных начала вещей: материя и форма. Два специфических различия субстанции: разреженная и плотная, простая и смешанная. Два первых противоположных и активных начала: тепло и холод. Двое первых родителей предметов природы: солнце и земля.
Фрулла. Сообразно этим вышеупомянутым двоицам я предлагаю другую лестницу двойственности. Животные входят в ковчего по паре, выходят оттуда также парами. Два корифея небесных знаковы: Баран и Бык. Два вида упомянуты в псалме: конь и мул. Двое животных по образу и подобию человека: обезьяна на земле и сыч на небе. Две поддельные и почитаемые флорентийские реликвии в вашем отечестве: зубы Сасетто и борода Петруччо15. Двух животных называет пророк, как имеющих больше ума, чем народ Израиля: быка, потому что он знает своего владельца, и осла, так как он умеет найти хозяйские ясли. Двое было таинственных животных, годных для верховой езды нашего искупителя: ослица и молодой осел, которые означают древнееврейское верование и новое, языческое. От них произошло два имени, обычные прозвища секретаря императора Августа: Ослицын и Осленкин. Две породы ослов: домашние и дикие. Два наиболее обычных цвета их: серый и черный. Две пирамиды, на которых должны быть записаны и посвящены вечности имена двух этих и им подобных докторов: правое ухо Силенова коня и левое — антагониста бога садов.
Пруденций. Весьма изрядное остроумие. Перечнем сим ни в коем случае не подобает пренебрегать.
Фрулла. Я горжусь тем, мессер Пруденций, что вы одобряете мою речь, что вы благоразумнее самого благоразумия, что вы богиня благоразумия мужского рода.
Пруденций. А ведь сие не лишено изящества и юмора! Но оставим эти взаимные славословия. Сядем, ибо, по словам князя перипатетиков, когда мы спокойно сидим, то становимся мудрыми; и, таким образом, до самого солнечного заката проведем наше четверобеседование относительно результата разговора Ноланца с доктором Торквато и доктором Нундинием.
Фрулла. Хотелось бы знать, что вы подразумеваете под этим четверобеседованием?
Пруденций. Четверобеседование, сказал я, — это беседа четырех, как диалог — беседа двух, трилог — беседа трех, и так дальше — пенталог, гепталог и прочее, что противозаконно называется диалогами, в смысле собеседования многих. Ведь неправдоподобно, чтобы греки, изобретатели слова диалог, употребляли первый его слог «ди» в смысле начала латинского выражения «диверсус», т. е. в смысле «многих».
Смит. Прошу вас, господин маэстро, оставим эти грамматические тонкости и перейдем к нашей теме.
Пруденций. О времена! Вы, кажется мне, мало считаетесь с изящным стилем. Как мы сможем вести хорошее четверобеседование, если не знаем, что означает выражение «четверобеседование», и, что еще хуже, если мы думаем, что это есть диалог. Разве надо начинать не с определения и не с объяснения понятий, как этому учит наш Арпинат?16
Теофил. Вы, мессер Пруденций, слишком благоразумны! Прекратите, пожалуйста, эти грамматические разговоры и считаете, что это наше рассуждение будет диалогом: хотя нас четверо, но обязанность спрашивать и отвечать, рассуждать и выслушивать будут выполнять лишь двое. Однако, чтобы приступить и вести дело с начала, придите и вдохновите меня, о Музы! Не призываю вас, говорящих напыщенными и гордыми стихами на Геликоне, потому что опасаюсь, что вы будете жаловаться на меня в конце, когда, после долгого и трудного путешествия, после переезда опасных морей, после того как вы увидите свирепые нравы, вам придется босыми и голыми вернуться в свое отечество, так как здесь нет рыбы для ломбардцев. Оставляю в стороне то, что вы не только иностранки для меня, но вдобавок из той расы, о которой поэт говорит:
Я не был никогда лукавым греком.
Кроме того, не могу влюбиться в то, чего не вижу. Другие, другие сковали мою душу. И этим-то говорю я: грациозные, милые, мягкие, нежные, молодые, прекрасные, деликатные, светловолосые, белолицые, краснощекие, с сочными губами, божественными глазами, эмалевой грудью и бриллиантовым сердцем, благодаря вам я столько мыслей порождаю в уме, столько страстей храню в душе, столько чувств черпаю в жизни, столько слез лью из глаз, столько вздохов испускаю из груди и столько пламени изливаю из сердца. О, вы, музы Англии, говорю я: вдохновляйте, внушайте, согревайте, воспламеняйте, очищайте и растворяйте меня; дайте мне сок жизни и заставьте выступить не с маленькой, изящной, урезанной и краткой эпиграммой, но с обильным и широким потоком прозы долгой, текучей, большой и стойкой, чтобы мои берега образовались не пишущим пером, а широким руслом канала. И ты, моя Мнемозиина, скрытая под тридцатью печатями и заключенная в мрачной темнице теней идей, спой мне немного на ухо! 17
Как-то пришли к Ноланцу от имени королевского шталмейстера два человека и сообщили, что пославший их желает иметь разговор с Ноланцем, чтобы уразуметь коперниковские и прочие парадоксы его новой философии. Ноланец на это ответил, что он не смотрит ни глазами Коперника, ни Птоломея, но своими собственными, что касается суждения и определения. Что же касается наблюдений, то он считает себя очень обязанным этим и другим старательным математикам, прибавлявшим постепенно с течением времени, одно объяснение к другому, давшие ему достаточные основания, благодаря которым он пришел к такому суждению, которое могло созреть только после многих нелегких занятий. Ноланец добавил, что фактически они — как бы посредники, переводящие слова с одного языка на другой; но затем другие вникают в смысл, а не они сами. Они же подобны тем простым людям, которые сообщают отсутствующему полководцу о том, в какой форме протекала битва и каков был результат ее, но сами-то они не понимают дела, причины и искусства, благодаря которым вот эти победили; понимает же тот, кто имеет опыт и лучше разбирается в военном искусстве. Так, обращаясь к фиванской Манто, котораят видела, но не понимала, слепой, но божественнный толкователь Тирезий говорил:
Большая доля истины бывает
Сокрыта от слепого. Но куда
Меня зовут отечество и Феб,
Последую..............
Ты, дочка, поводырь отца слепого,
Передавай о знаменьях святых.
Подобно этому какое суждение могли бы мы вынести, если бы не были предъявлены нам и не поставлены перед глазами разума многоразличные проверенные данные относительно небесных или близких нам тел? Конечно, никакого. Однако, воздавши благодарность богам, подателям блага, происходящим от первого и бесконечно всемогущего света, и восславивши усердие названных великодушных умов, мы утверждаем самым ясным образом, что должны открыть глаза на то, что они наблюдали и видели, но мы не обязаны соглашаться с их понятиями, мнениями и определениями.
Смит. Прошу вас, дайте мне возможность узнать ваше мнение о Копернике?
Теофил. У него было серьезное, разработанное, живое и зрелое дарование. Этот человек не ниже ни одного из астрономов, бывших до него, если не говорить о последовательности во времени, человек, по прирожденной рассудительности стоявший много выше Птоломея, Гиппарха, Евдокса и всех других, шедших по их следам. Ему мы обязаны освобождением от некоторых ложных предположений общей вульгарной философии, если не сказать, от слепоты. Однако он недалеко от нее ушел, так как, зная математику больше, чем природу, не мог настолько углубиться и проникнуть в последнюю, чтобы уничтожить корни затруднений и ложных принципов, чем совершенно разрешил все противодействующие трудности, избавил бы себя и других от многих бесполезных исследований и фиксировал бы внимание на делах постоянных и определенных. При всем том кто может вполне восхвалить великий дух его, который, обращая мало внимания на глупую массу, крепко стоял против потока противоположной веры и, хотя почти не был вооружен живыми доводами, все же, подбирая ничтожные и заржавевшие обломки, которые можно получить из рук древности, заново их обработал, соединил и настолько спаял своей более математической, чем естественно-научной речью, что превратил дело, бывшее смешным, низким и презираемым, в дело почтенное, ценимое, более вероятное, чем другое, противостоящее ему, и несомненнейшим образом в более удобное и необходимое для теории вычисления? Хотя он и не имел достаточно средств, с помощью которых смог бы не только сопротивляться, но полностью покорить, победить и уничтожить ложь, все же он мог найти твердую почву для себя и совершенно открыто признать следующее: в конце концов необходимо считать более вероятным, что наш шар движется по отношению ко вселенной, чем допустить, что совокупность неисчислимых тел, из которых многие признаны более великолепными и более крупными, имеет вопреки природе и разуму основой и центром своих круговых движений наш шар, хотя они самым чувствительным образом своими движениями доказывают обратное. Кто же будет настолько подлым и невежливым по отношению к труду этого человека, который, даже если забыть то, что было им сделано, был послан богами, как заря, которая должна предшествовать восходу солнца истинной античной философии, в течение веков погребенной в темных пещерах слепоты и злого, бесстыдного, завистливого невежества; кто пожелает, обращая внимание на то, чего он не мог сделать, скорее поместить его в ряды стадной массы, бегущей, ведомой и падающей вследствие послушания грубой и низкой вере, чем включить в число тех, которые могли восстать благодаря своему счастливому уму и подняться благодаря вернейшему сопровождению ока божественного понимания?
Но что скажу я о Ноланце? Может быть, мне не следовало бы хвалить его, потому что он так же мне близок, как я сам себе? Конечно, не найдется рассудительного человека, который упрекнул бы меня в этом, принимая во внимание, что оно иной раз не только пристойно, но и необходимо, как об этом удачно говорит изящный и культурный Тансилло.
Кто славы ищет, чуждый лицемерья,
Не должен говорить про самого себя,
Ведь наш язык не заслужил доверья,
Где сердце увлекается, любя;
И лучше подождать — не вижу в том потерь я, —
Чтоб человек другой стал прославлять тебя,
Когда одно из двух свершить способно слово:
Упреки устранить — обрадовать другого.
Все же если найдется человек, столь гордый, что не захочет допустить ни по какому поводу собственной или почти собственной похвалы, то пусть он знает, что ее иной раз нельзя отделить от отчета о своих настоящих действиях. Кто упрекнет Апеллеса, который, показывая свое произведение хотевшему узнать о нем, говорил, что это творение его рук? Кто станет порицать Фидия, который на вопрос об авторе его великолепной статуи ответил, что это он? Следовательно, чтобы вы поняли данное произведение и его важность, я предлагаю в виде заключения то, что очень скоро легчайшим и самым ясным образом будет доказано.
Если получил похвалы античный Тифис за то, что первым изобрел корабль и прошел с аргонавтами море:
Храбрость безмерна того, кто первым чрез море неверное
На корабле столь непрочном путь далеко проложил
И, позади оставляя родимые земли,
Жизнь вероломному ветру доверил свою21;
если в наши времена возвеличен Колумб за то, что стал тем, о ком было задолго предсказано:
Настанет день в столетиях грядущих,
Когда расторгнет океан вещей оковы,
И Тифис новый мир откроет и не будет больше
Последним местом Фула на земле 22;
то как же надо отнестись к тому, кто нашел средство подняться на небо, пробежать по сфере звезд и оставить за собой выпуклую поверхность небесного свода?
Потомки Тифиса нашли средство поколебать покой других, оскорбить местных духов предков, смешать то, что заботливая природа разделила, удвоить ради торговли недостатки, к порокам одного племени присоединить пороки другого, насильно распространять новые глупости и насаждать неслыханные сумасбродства там, где их не было, объявляя себя, наконец, как самых сильных, самыми умными; показывать новые ухищрения, приемы и способы тиранствовать и убивать друг друга. Но вследствие этих деяний придет время, когда те люди, обученные столь дурным средствам, в силу превратности вещей смогут воздать им подобными и еще худшими плодами столь пагубных изобретений.
Отцы наши видели светлый век,
Невинный, не ведавший козней злых,
И все, не касаясь чужих берегов
И спокойно старея на отчих полях,
Довольны немногим, не знали богатств,
Кроме тех, что рождает родная земля...
...............
Хорошо разделенные мира концы
Воедино связал фессалийский корабль,
И морю удары терпеть приказал
И к прежним страхам прибавился страх
Пред пучиной морской.23
Ноланец же, чтобы достигнуть результатов совершенно противоположных, освободил человеческий дух и познание, которые были заключены в теснейшей тюрьме мятущегося воздуха, откуда с трудом, как через несколько отверстий, можно было всматриваться в отдаленнейшие звезды; при этом крылья у человеческого духа были обрезаны, чтобы не мог он взлететь, раздвинуть завесу этих туч, увидеть то, что за ними действительно скрывается и освободиться от тех химер, которые, выйдя из болот и пещер земли, подобно Меркуриям и Аполлонам, якобы спустившимся с неба, заполнили весь мир множеством обманов, бесчисленными сумасбродствами, грубостями и пороками под видом добродетелей, божеств и учений; эти химеры, одобряя и утверждая туманный мрак софистов и ослов потушили свет, делавший божественными и героическими души наших древних отцов. Поэтому-то столь давно уже подавленный человеческий разум иногда, в моменты просветления, обращается, оплакивая свое низкое состояние, к божественной и предусмотрительной мысли с такими словами:
Кто, о мадонна, поднимется ради меня в небеса,
Чтобы принесть мне сюда мой потерянный разум?24
И вот Ноланец, пересекший воздушное пространство, проникнувши в небо, пройдя меж звездами за границы мира, заставил исчезнуть фантастические стены первой, восьмой, девятой, десятой и прочих, каких бы еще ни прибавили сфер, согласно рассказам суетных математиков и слепых вульгарных философов.
Так перед лицом здравого смысла он ключом тщательнейших исследований открыл те убежища истины, которые могут быть нами обнаружены, обнажил скрытую под покровом природу, раскрыл глаза у кротов, излечил слепых, которые не могли поднять глаза, чтобы поглядеть на свой образ в зеркалах, со всех сторон окружавших их, развязал язык у немых, не умевших и не осмеливавшихся объяснять смутные чувства, излечил хромых, которые не могли совершить то движение духа вперед, к которому не способен человек, состоящий из неблагородной и разложимой материи; это он заставил людей находиться на солнце, луне и других названных светилах, как если бы люди были их первоначальными обитателями; он показал, насколько схожи и не схожи, больше или хуже тела, видимые как отдаленные от того тела, на котором находимся мы сами и с которыми мы соединены; он открыл наши глаза, чтобы мы увидели это божество, эту нашу мать, которая на своем хребте кормит и питает нас, после того как произвела из своего лона, и куда снова принимает нас; он не позволяет думать, что она есть тело без души и без жизни или даже какой-то отброс среди телесных субстанций.
Таким образом мы узнаем, что если бы мы были на луне или на другой звезде, мы были бы в месте, не очень отличающемся от земли, или, может быть, даже в худшем месте; мы узнаем, что могут быть другие тела, столь же хорошие и даже лучшие сами по себе и способные дать больше счастья своим обитателям.
Так мы узнаем, что есть столько планет, столько звезд, столько божеств, сколько сот тысяч их присутствует на службе — в созерцании первого, всеобщего, бесконечного и вечно действующего начала. Наш разум не скован больше кандалами фантастических восьми, девяти или десяти двигателей. Мы знаем, что есть только одно небо, одна бесконечная эфирная область, где эти великолепные светочи сохраняют свои расстояния ради удобства участия в постоянной жизни. Эти пылающие тела суть посланники, извещающие о превосходстве славы и величия Божия. Так мы продвинулись к открытию бесконечного следствия бесконечной причины, истинного и живого следа бесконечной силы; мы обладаем учением, которое не заставляет нас искать божество вдали от нас, если мы имеем его вблизи нас, даже внутри, более чем мы сами внутри нас, так же как жители других миров не должны искать его в нас, имея его близ и внутри себя; ведь луна есть не больше небо для нас, чем мы для луны. Так можно найти в какой-то мере лучшее применение тому, о чем говорит Тансилло как бы для развлечения.
Коль не берете вы добра, что с вами рядом,
То как же взять вам то, что видно вдалеке?
Пренебрегать своим, мне кажется, не надо,
Как и мечтать о том, что есть в чужой руке...
Вы — тот, кто сам себя покинул, — тщетно взглядом
Подобия себя вы ищете в тоске.
Совсем как вы, в ручей так падает борзая,
Своей поноски тень схватить в воде желая,
Ищите истину и позабудьте тени!
Ведь то, что есть сейчас, ценней грядущих благ.
Я знаю, жизнь дана для лучших достижений,
Но, чтоб беспечно жить, с улыбкой на устах,
Я рад тому, что есть, и новых жду мгновений,
С двойною радостью в сияющих очах.25
При этом один, хотя бы и один, может и должен победить, и в конце концов, даже побежденный, он восторжествует над общим невежеством. И нет сомнения, что дело должно быть решено не массой слепых и глухих свидетелей, ругательств и пустых слов, но силой управляемого чувства, которое даст в конце необходимое заключение; ведь фактически все слепые не стоят одного зрячего и все глупые не заменят одного умного.
Пруденций.
Если в делах и словах не того, что было в них прежде,
Ты довольствуйся тем, что время ныне приносит.
И не дерзай презирать общепринятых взглядов народа,
Ибо унизится тот, кто толпу презирать пожелает26.
Теофил. В высшей степени разумно сказано относительно приглашенных на пир общего порядка и практики культурного обращения, но не относительно познания истины и правила для умозрения, о котором говорит тот же мудрец.
Обучайся, но у ученых; неученых должен сам научить.
Еще о том, что ты сказал относительно учения, подходящего для многих; ведь есть совет, касающийся массы; чтобы не возлагали на плечи всякого эту тяжесть, но поручали ее тем, кто сможет нести ее, как Ноланец, или, по крайней мере, двигать ее к своей цели, не натыкаясь на непосильные трудности, что умел делать Коперник. Кроме того те, кто владеют этой истиной, не должны сообщать ее лицам всякого сорта, если не желают, как говорится, мыть голову ослу и не хотят видеть то, что делают с бисером свиньи, и собирать такие плоды своего усердия и утомления, какие обычно производит дерзкое и глупое невежество вместе с самомнением и некультурностью — своими постоянными верными спутниками. Итак, лишь для тех неученых мы можем быть учителями и для тех слепых исцелителями, которые называются слепыми не по прирожденному бессилию или не из-за отсутствия способности и дисциплинированности, но по их неосмотрительности или невнимательности, что бывает еще и по недостатку активности, а не способности. Из этих некоторые настолько криводушны и злы, что вследствие какой-то смутной зависти гордятся и гневаются на тех, кто, как им кажется, хочет их обучать; будучи, как их считают, и, что хуже, как они сами себя считают, учеными и докторами, они осмеливаются показывать знание того, чего они не знают. Вы видите здесь, как они вспыхивают и приходят в ярость.
Фрулла. Как это случилось с теми двумя грубыми докторами, о которых мы говорили; один из них, не зная, как отвечать и аргументировать дальше, поднялся, желая закончить разговор принятием мер согласно пословицам Эразма, то есть кулаками, и закричал: «Как? разве ты не поплывешь в Антициру?27 Ты хочешь быть основателем новой философии, который не уступил бы своим величием ни Птолемею, ни многим другим великим философам и астрономам? Может быть, ты ищешь узлов у тростника?» Он употреблял и другие выражения, достойные того, чтобы на них ответить ударами палок, которыми погонщики дубасят по спинам ослов.
Теофил. Это пока оставим. Есть и такие доктора, которые из-за легковерного безумства, боясь, что в деле познания нельзя шутить, упрямо желают оставаться в том тумане, который когда-то плохо усвоили. Но есть и другие, счастливые прирожденные таланты, у которых никакое почтенное знание не пропадает: они не рассуждают опрометчиво; обладают свободным умом, ясным взглядом и являются произведением неба, — если и не изобретателями, то все же исследователями, искателями, судьями и свидетелями истины.
У этих Ноланец пользовался, пользуется и будет пользоваться одобрением и любовью. Они — благороднейшие умы, способные слушать его и диспутировать с ним. Потому что в действительности никто не достоин противостоять ему в этих вопросах и должен или фактически удовлетвориться согласием с ним, не будучи столь способным, или же, по меньшей мере, должен подписаться под многим, более важным и главным, и согласиться, что если оно не может быть признано самым верным, то, во всяком случае, наиболее вероятным.
Пруденций. Как хотите, но я не могу отказаться от мнения древних, поелику, говорит мудрец, знание находится у древних.
Теофил. И он добавляет, что благоразумие — в длительности времени. Если бы вы понимали хорошенько то, что сказали, то увидели бы, что из вашего изречения вытекает совсем противоположное тому, что вы думаете: я хочу сказать, что мы старше и имеем более зрелый возраст, чем наши предшественники. Я имею в виду некоторые суждения, как например, рассматриваемые нами. У Евдокса28, жившего вскоре после рождения астрономии (хотя сам он не тогда родился), не могло быть стол зрелого суждения, как у жившего через тридцать лет после смерти Александра Великого Калиппа29, который с каждым годом мог прибавлять наблюдение к наблюдению. Гиппарх30 на том же основании должен был знать об этом больше, чем Калипп, потому что видел перемены, поисшедшие через сто девяносто семь лет после смерти Александра. Менелай31, римский геометр, видевший разницу в движении спустя четыреста шестьдесят два года после смерти Александра, естественно, смог понять в этом больше, чем Гиппарх. Больше в этом должен был видеть Махомет Гараценский32 через тысячу двести два года. Больше его видел Коперник почти в наше время, после того как протекло тысяча восемьсот сорок девять лет. Но если некоторые из живущих позже все-таки не проницательнее живших ранее и масса живущих ныне имеет, однако, не больше понимания, то это происходит оттого, что те не жили и эти не живут в иные годы, и, что хуже, оттого, что те и другие живут мертвецами в свои собственные годы.
Пруденций. Говорите, что хотите, излагайте, как вам угодно, а я остаюсь другом древности; а что касается ваших мнений и парадоксов, то я не верю, чтобы столько таких выдающихся мудрецов оставались невеждами, как думаете вы и прочие друзья новизны.
Теофил. Хорошо, маэстро Пруденций; если это ваше и общераспространенное мнение верно, то, поскольку оно древнее, оно, конечно, было ложным, когда было новым. Прежде чем эта философия стала приноровленной к вашему мозгу, иная философия халдеев, египтян, магов, орфиков, пифагорейцев и прочих древних соответствовала нашему пониманию, и из них первыми восстали против нее эти безумные и пустые логики и математики, не столько враждебные древности, сколько чуждые истине. Так что отложим в сторону рассуждения о древности и новизне, имея в виду, что нет ничего нового, что не может стать старым, и нет ничего старого, что не было новым, как хорошо заметил ваш Аристотель.
Фрулла. Если я не выскажусь, то, несомненно, взорвусь и лопну. Вы говорите «ваш Аристотель», обращаясь к маэстро Пруденцию. Знаете, как я понимаю, это «ваш Аристотель», то есть, что он — аристотелик-перипатетик? (Пожалуйста, сделаем это отступление для сравнения.) У архиепископских ворот в Неаполе стояли двое нищих слепцов, из которых один называл себя гвельфом, а другой гибеллином. Из-за этого они начали так жестоко бить друг друга палками, бывшими у них в руках, что если бы их не разняли, не знаю, чем бы это кончилось. И вот один джентльмен подошел к ним и говорит: «Идите-ка сюда, слепые оборванцы: что такое гвельф? что такое гибеллин? что значит быть гвельфом и быть гибеллином?» — И действительно. Один не знал, что отвечать и что говорить. Другой разрешился словами: «Синьор Пиетро Костанцо33, мой покровитель, которому я желаю всякого добра, есть гибеллин». Именно так многие являются перипатетиками, гневаются, горячатся и пускают в ход кулаки из-за Аристотеля, хотят защищать учение Аристотеля, являются врагами недругов Аристотеля, хотят жить и умереть ради Аристотеля, а сами не знают даже, что означают заглавия книг Аристотеля. Если хотите, чтобы я вам показал такого, вот один, которому вы сказали «ваш Аритотель» и который время от времени выражается: «наш Аристотель», «князь перипатетиков», «наш Платон» и т. д.
Пруденций. Я низкого мнения о вашем мнении и нисколько не уважаю вашего уважения.
Теофил. Пожалуйста, не прерывайте больше нашего разговора.
Смит. Продолжайте, синьор Теофил.
Теофил. Я говорю: ваш Аристотель, отмечает, что как существует изменяемость всех вещей, так и в такой же мере изменяемость мнений и разных следствий; поэтому уважать философские учения по их древности это все равно, что решать, что было раньше: день или ночь. Все же мы должны устремить глаз разума на то, находимся ли мы среди белого дня и сияет ли над нашим горизонтом свет истины, или же он у наших антиподов, мы ли в потемках или они; и в заключение: полагая начало обновлению античной философии, живем ли мы в утреннее время, чтобы закончить ночь, или в вечернее, чтобы покончить с днем. И это, конечно, не трудно определить, судя также по количеству плодов созерцания того и другого вида.
Но ведь мы видим разницу между этими и теми. Эти в жизни умеренны, в медицине опытны, рассудительны в созерцаниях, исключительны в предвидении, удивительны в магии, предусмотрительны в суевериях, исполнительны в отношении законов, безупречны в морали, божественны в теологии, героичны во всех проявлениях, как это доказывает их продолжительная жизнь, закаленные тела, их возвышенные изобретения, исполнившиеся предсказания, преобразованные их трудом субстанции, мирное сожительство тех народов, их ненарушимые обряды, справедливейшие взыскания, близость добрых и покровительствующих умов и длящиеся еще следы их чудесной производительности. Я предоставляю другим судить о тех, которые противоположным им.
Смит. А что вы скажете о том, что в наши времена большая часть думает наоборот, особенно в области учений?
Теофил. Не удивляюсь, потому что обыкновенно те, у кого не хватает понимания, думают, что знают больше, а те, которые вовсе лишены ума, думают, что знают все.
Смит. Скажи мне, каким образом можно исправить этих?
Фрулла. Снявши прочь голову и поставив другую.
Теофил. Снявши прочь каким-либо способом аргументации их оценку знания и остроумными убеждениями освободивши их, поскольку это возможно, от их глупого мнения, для того чтобы они стали начинающими слушателями, — это возможно в том случае, если обучающий заметит, что их умы способны и искусны. По обычаю пифагорейской и нашей школы, они не должны заниматься расспросами и диспутами, прежде чем не прослушают полный курс философии, потому что если само учение совершенно и ими понято в совершенстве, то оно вытеснит все сомнения и разрешит все противоречия. Кроме того, если случайно найдется более развитой ум, то он сможет тогда увидеть, что надо добавить, убрать, исправить и изменить. Тогда можно сравнить эти принципы и эти выводы с другими противоположными принципами и заключениями и таким образом рассудительно соглашаться или не соглашаться, спрашивать и отвечать; ведь иначе нельзя познавать искусства и науки, нельзя сомневаться и спрашивать по поводу их и в нужном порядке, если сперва не выслушал. Никогда нельзя быть хорошим следователем и судьей в деле, если сперва не был информирован о нем. Но где учение развивается по определенным ступеням, проходя от установленных и подтвержденных принципов и оснований к построению и усовершенствованию теорий, которые благодаря этому можно понять, там слушатель должен быть молчалив и, прежде чем все не выслушал и не понял, обязан считать, что с прогрессом учения все трудности прекратятся.
Другого обыкновения держатся эффектики и пирронисты34, которые, делая заявление, что ничего нельзя познать, все время исследуют, спрашивая и отыскивая, чтобы в результате ничего не найти.
Не менее несчастны те умы, которые хотят оспаривать яснейшие вещи, теряя больше времени, чем можно себе представить, и те, которые, чтобы казаться учеными и ради других недостойных обстоятельств, не хотят ни обучать, ни учиться, но только отрицать и оспаривать истину.
Смит. Меня смущает в сказанном вами вот что. Ведь существует бесчисленная масса таких людей, которые заранее полагают, что они обладают знаниями, и считают себя достойными, чтобы их постоянно выслушивали; как вы видите, все университеты и академии полны этими Аристархами, которые не уступят даже пустяка самому Зевсу Громовержцу. Те, которые учатся у них, приобретут лишь то, что поднимутся от незнания, которое есть отсутствие истины, к тому, что станут считать себя знающими, а это было бы безумием и прикрытием лжи. Посмотри же, что выиграли бы это слушатели: отойдя от невежества простого отсутствия знаний, они пришли бы к невежеству дурного обладания ими, как говорится. И вот, кто даст мне гарантию в том, что, после затраты значительного времени и труда и с упущением лучшего учения и занятий, со мной не случится того, что происходит большею частью: а именно, что вместо овладения знаниями я не заражу свою мысль пагубным безумством? Как я, ничего не знающий, могу узнать разницу между достоинствами и недостатками, бедностью и богатством тех, которые считают себя знающими! Я хорошо вижу, что все мы рождаемся невеждами, легко доверяем, будучи невежественными, растем и воспитываемся в послушании и привычках нашего дома и слышим, что наши порицают законы, обряды, верования и нравы наших противников и чужих не меньше, чем противники порицают нас и наши дела. В нас вырастают в силу определенного естественного питания корни рвения к нашим делам не меньше, чем у многих других — к их делам. Затем легко может стать привычкой, что наши начнут считать жертвоприношением богам то, что подавляются, завоевываются и убиваются враги нашей веры; это встречается в неменьшей мере и у всех других, когда они действуют подобно нам. И с неменьшим жаром уверенности и убежденности они благодарят бога за обладание тем светочем, за который обещана вечная жизнь, как и мы воздаем благодарность, что не находимся в той слепоте и тьме, как они. К этой предубежденности религии и веры прибавляется предубежденность в науке. Так, по избранию ли воспитавших меня родителей и педагогов, или по моему капризу и фантазии, или из-за привязанности к славе ученого я буду с неменьшей душевной удовлетворенностью считать себя более счастливым под руководством наглого и преуспевающего невежества осла, чем всякий другой под руководством знающего и даже ученого человека. Разве ты не знаешь, какую силу имеет привычка с детства воспитываться в определенных убеждениях: из-за этого становятся недоступными для понимания самые явные вещи; не иначе происходит с теми, кто привык употреблять яд: тело их в конце концов не только не чувствует от этого вреда, но даже превращает яд в естественную пищу, так что само противоядие стало для них смертельным. И вот, скажи мне, каким образом согласовал бы ты эти нашептывания, ты, а не кто-нибудь иной, поскольку в его душе, может быть, меньше склонности принимать предложения от тебя, чем от тысячи других?
Теофил. Это дар богов, если они ведут тебя и позволяют судье вести навстречу тебе человека, который не столько имеет репутацию настоящего руководителя, сколько является таковым в действительности, и если боги освещают твой дух для выбора того, кто лучший.
Смит. И все же обыкновенно придерживаются общепринятого мнения, — согласно ему, когда делается ошибка, она пользуется благоволением общества.
Теофил. Вот мысль, самая недостойная человека! Поэтому-то так мало людей мудрых и божественных и воля богов такова, что не заслуживает уважения и высокой оценки то, что обычно и общепринято.
Смит. Я вполне уверен в том, что истина известна немногим, а самым ценным обладает самое малое число лиц; но меня смущает, что много вещей находится у очень немногих и, может быть, почти что у одного, — у людей, которые не заслуживают уважения, ничего не стоят и могут быть чрезвычайно глупы и порочны.
Теофил. Хорошо, но в конце концов более надежно и более подходяще искать истину не у толпы, потому что она никогда не приносит драгоценного и достойного; совершенное же и ценное всегда находится у немногих. И если такое встречается редко или довольно редко, все же всякий, хотя и не смог бы найти его, по меньшей мере должен о нем знать; но оно не делается таким драгоценным через познание, как через обладание.
Смит. Однако оставим эти речи и остановимся немного, чтобы послушать и понаблюдать за мыслями Ноланца. Ибо пора, наконец, признать принимаемое пока на веру достойным того, чтобы оно было выслушано.
Теофил. Ему этого, конечно, достаточно. Но обратите внимание, насколько его философия сильна, чтобы удержаться, защищаться, обнаружить заблуждения и вскрыть обманы софистов и слепоту толпы и вульгарной философии. Смит. Так как теперь ночь, то с этой целью вернемся завтра сюда в этот же час и выскажемся тогда относительно встреч и учения Ноланца.
Пруденций. «Луга увлажнились досыта». «Вот ведь уж влажная ночь с небосклона мчится...»35
Конец первого диалога
ПИР НА ПЕПЛЕ
ДИАЛОГ ВТОРОЙ
Теофил. Тогда сэр Фулк Гривелл сказал ему: «Прошу вас, синьор Ноланец, позвольте мне выслушать соображения, по которым вы считаете землю движущейся». Тот ответил, что не может высказать ему никаких соображений, не зная его способностей, а не зная, как это могло бы им быть воспринято, он опасается, что поступил бы подобно тем людям, которые высказывают свои соображения статуе и сбираются говорить с мертвыми. Поэтому ему приятно было сперва ознакомиться с теми соображениями, которые убеждали бы его в противоположном мнении; потому что соответственно свету и силе ума, которые тот выкажет, излагая свои соображения, им будут приняты определенные решения. К этому Ноланец прибавил, что у него имеется желание показать бессмысленность противоположных мнений на основании тех же самых принципов, которыми их хотят обосновать, если ему выпадет немалое удовольствие найти лиц, признанных подходящими для такого занятия. Он же всегда подготовлен и готов отвечать. Таким образом, тем лучше можно увидеть силу оснований этой его философии, направленной против вульгарной философии, чем больше случаев представилось бы ему для ответов и заявлений.
Сэру Фулку очень понравился этот ответ. Он сказал: «Вы оказываете мне приятнейшую услугу. Я принимаю ваше предложение и хочу назначить день, когда могли бы собраться лица, которые, может быть, не преминут дать вам достаточно материала, чтобы выступить с вашими идеями во всеоружии. В среду, через 8 дней, что будет в день пепла, вы будете приглашены вместе со многими джентльменами и учеными для того, чтобы после ужина провести дискуссию о прекрасных и различных предметах»36. «Обещаю вам, — сказал Ноланец, — что я не упущу возможности явиться как тогда, так и всякий раз, когда мне представится подобный случай, потому что не найдется столь крупного дела, которое удержало бы меня по моей собственной воле от усердного желания понять и узнать. Но, прошу вас, не заставлйте меня выступать перед особами непорядочными, плохо воспитанными и мало понимающими в подобных умозрениях. (И он, конечно, имел основание для такого опасения, так как в поведении многих ученых этой страны, с которыми он рассуждал о литературе, он нашел больше грубости, чем иного, чего можно было бы желать.) Сэр Фулк ответил, что он может не сомневаться, так как предлагаемые им — самые благовоспитанные и самые ученые. Так и условиись. А когда наступил назначенный день, — о том да помогут мне рассказать музы!
Пруденций. По обычаю поэтов: обращение, пафос, призыв с мольбою.
Смит. Слушайте же, маэстро Пруденций.
Пруденций. С превеликим удовольствием.
Теофил. Ноланец, прождавши до условленного дня ужина и не имея о нем никаких новых вестей, решил, что упомянутый джентльмен, занятый другими делами, забыл о нем или не мог позаботиться об этом. Перестав думать об этом, он пошел прогуляться и навестить некоторых друзей итальянцев; вернулся домой поздно, когда зашло солнце...
Пруденций. Уже сверкающий Феб повернул к нашему полушарию спину, чтобы осветить сияющей главой антиподов...
Фрулла. Болтайте, пожалуйста, маэстро про себя, тогда ваша манера декламации вполне удовлетворит меня.
Пруденций. О, если бы я знал эту историю!
Фрулла. Ну, так и помолчите, черт возьми.
Теофил. Поздно вечером, подойдя дому, Ноланец застал у дверей господин Флорио37 и маэстро Гвинна38, очень усталых от поисков его. Увидев его, они воскликнули: «Пожалуйста, идемте поскорее, немедленно, вас ожидает много кавалеров, джентльменов докторов и среди них — один из собирающихся спорить с вами, ваш тезка.
«А мы ему не сделаем ничего плохого, — сказал Ноланец. — Но одно мне теперь кажется промахом: я ведь рассчитывал провести дискуссию при свете солнца, а вижу, что спор будет при свечах». Маэстро Гвинн извинился за некоторых кавалеров, которые желали присутствовать, но не могли явиться на обед и пришли к ужину. «Ну, так идемте, — сказал Ноланец, — и будем просить бога, чтобы он сопровождал нас в долгом пути в темный вечер, по ненадежным улицам».
И вот, хотя мы находились на прямой улице, но, рассчитывая сделать лучше, мы для сокращения пути направились к реке Темзе, надеясь найти лодку, которая доставила бы нас прямо к дворцу. Мы подошли к мосту дворца лорда Бекгерста. Там мы потеряли столько времени, крича и призывая лодочников, что успели бы скорее добраться пешком к назначенному месту да еще выполнить какое-нибудь небольшое дело. В конце концов издали откликнулись двое лодочников. Медленно, медленно, как будто их ждала виселица, они подплыли к берегу. Здесь, после долгих расспросов и ответов — откуда, куда, зачем, и как, и сколько, — они коснулись кормой нижней ступеньки моста. И вот один из двух, похожий на античного кормчего из царства Тартара, подал руку Ноланцу, а другой, — думаю, сын первого, хотя и был лет около шестидесяти пяти, — помог прочим из нас. И вот, хотя сюда не вошел ни Геркулес, ни Эней или один из королей Сарца, Родомонт,
Большая ладья застонала под грузом
И зачерпнула болотного ила обильно.
Услышав эту музыку, Ноланец сказал: «Да будет угодно богу, чтобы она не стала лодкой Харона; думаю, что эта лодка названа соперницей вечного света». Она безусловно могла соревноваться по древности с Ноевым ковчегом и, честное слово, определенно казалась обломком от всемирного потопа. Части этой барки отвечали вам всюду, где бы вы ни тронули ее, и при каждом малейшем движении вовсю скрипели. «Думаю, что это не басня, — сказал Ноланец, — что фиванские, если не ошибаюсь, стены обладали голосом и иной раз пели песни. Если не верите, послушайте скрипы этой лодки, кажущейся мне дудочкой, которую волны заставляют издавать свист, когда они входят в ее отверстия и щели с обеих сторон». Мы смеялись, но лишь бог знает как.
Ганнибал, увидавши, что опечаленному государству
Выпал столь тягостный жребий на долю,
Стал улыбаться средь плачущих и потрясенных людей.
Пруденций. Сардонический смех.
Теофил. Возбуждаемые этой сладкой гармонией, как любовью, негодованием, погодой и подходящим сезоном, мы стали аккомпанировать этим звукам своими песнями. Мессер Флорио, как бы вспоминая о своих любовных увлечениях, запел: «Где ты без меня, моя сладкая радость?» Ноланец подхватил: «О, страдающий Сарацин, о женственная душа» и так далее. Так мало-помалу двигались мы, насколько допускала лодка, которая (доведенная червоточинами и временем до того, что могла бы служить пробкой) казалась свинцовой из-за своей медленной спешки, а руки обоих лодочников походили на обломки кораблекрушения; и хотя оба гребца показывали широкие размахи тела, тем не менее веслами делали короткие движения.
Пруденций. Отлично описана эта «спешка» при помощи проворной спины матросов «с медленностью» в употреблении весел, если сравнивать с непристойными действиями бога садов.
|
![]()